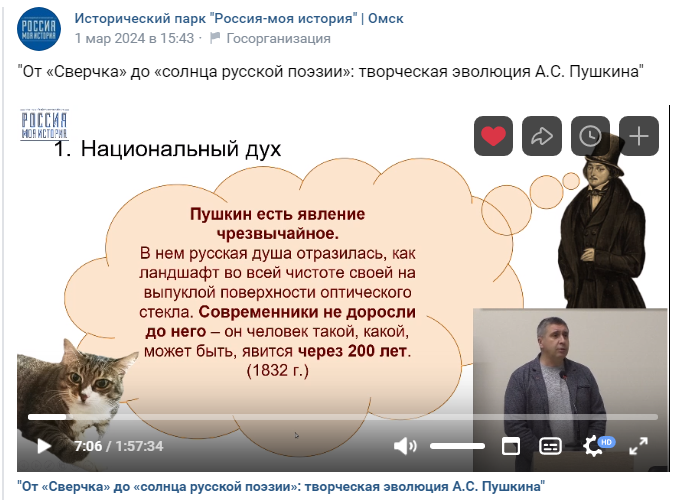Как омский симфонический оркестр подсолнечное масло вытирал

(Спойлер: масло — экзистенциальное ;), а оркестр, как всегда, справился со сложной задачей блестяще).
Человек выходит на сцену. Сегодня его ждёт триумф. Этим концертом он открывает очередной филармонический сезон. Он представляет публике своё новое, долгожданное произведение. У него столько творческих планов! За предстоящий год нужно сделать многое. Впереди большие зарубежные гастроли.
Через неделю этот человек умрёт.
Трудно быть богом — трижды правы осторожные эзопы эпохи застоя братья Стругацкие. А главное, с какого-то момента это начинает чертовски раздражать.
Читатель (он же слушатель, он же реципиент) в отношении автора обречён на проклятие всеведения — как и сам автор в отношении своего героя.
То, что для автора есть становящаяся жизнь, драматические перипетии с непредсказуемым финалом, для читателя (будем и дальше называть его так, хоть речь у нас пойдёт в основном о музыке) — давно свершившееся событие. Узлы судьбы завязаны и развязаны в не подлежащем изменению порядке. Приговор истории вынесен (хотя впоследствии он, разумеется, неоднократно может быть пересмотрен хронологически вышестоящей инстанцией).
Аннушка уже разлила подсолнечное масло — и нам с Богом это известно. Но ни стоящий за дирижёрским пультом Пётр Ильич Чайковский, ни сама Аннушка-судьба об этом пока не подозревают.
Автор, напряжённо продирающийся вперёд сквозь тропические, лианные хитросплетения настоящего, живёт будущим. Читатель, отстранённо взирающий с высоты своего грядущего «сегодня» на бесконечно перенаслаивающиеся отпечатки чьих-то следов в застывшей грязи истории, самой направленностью своего взгляда обречён на прошлое.
Понимание нуждается в близости. Знание, напротив, требует дистанции. Знание тем шире, чем расстояние масштабнее.
Поэтому читатель осведомлён об авторе и о его сочинениях куда более точно и всеобъемлюще, чем сам автор.
Смысл любого явления культуры прирастает со временем. Позднейшие контексты, капля за каплей, тонкой, неосязаемой плёнкой натекают на смысловую основу произведения, за столетия образуя гигантские семиотические сталактиты.
Чайковский по определению не мог увидеть в себе булгаковского Мастера. Да и Булгакову, учитывая внешние различия в судьбе, такая параллель пришла бы на ум едва ли.
Но микронные натёки смыслов, год за годом обволакивая угловатые выступы на потолке пещеры, сглаживают, а затем полностью погребают в своей толще острые сколы творческих разочарований, сиюмнутных житейских конфликтов и повседневных бытовых проблем, так больно раздираюших душу при движении внутри времени, но совершенно несущественных (а порой — так и откровенно смехотворных) при взгляде извне.
И так же неспешно, десятилетие за десятилетием, из броуновской многовариантности смыслов, присущих любой сложной семиотической конструкции, все явственнее проступает интегральный герменевтический вектор: что этот текст означает для культуры сам по себе, и как часть породившей его эпохи, и в сцеплении со множеством других текстов предшествующих и последующих эпох.
Сегодня, едва только начинает звучать шестая симфония Чайковского, мы из-за рокового читательского полувсеведения обречены вычитывать в ней трагические интонации реквиема, которым она стала по прихоти Аннушки-судьбы — и вопреки замыслу самого композитора.
И, когда оркестр переходит к четвёртой части, на музыку, сами собой всплывая из подсознания, ложатся слова, сочинённые двумя разными авторами через полстолетия и столетие с лишним после премьеры симфонии:
О, как я все угадал!..
Несчастный поэт!
Но вы сами во всем виноваты.
Кто хоть раз Сатану повстречал —
не избежал расплаты!
Поплатятся все Пилаты
и те, кто о них писал…
Осознанно ли, по иррациональной ли прихоти вдохновения — но главную тему адажио из последней симфонии Чайковского Александр Градский в своей опере «Мастер и Маргарита» взял в качестве музыкальной основы для короткого, взволнованного монолога Мастера во время его разговора в лечебнице с Иваном Бездомным.
Невозможностью не слышать Градского в Чайковском нам приходится расплачиваться за возможность услышать Чайковского в Градском.
Пожалуй, я дорожу этим непрошенно приросшим смыслом и не готов с ним расстаться — потому что с ним приросло что-то существенно важное и к моим лоскутным представлениям о каждом из этих композиторов, и к тому ощущению связи и сквозной взаимопроницаемости времён, без которого невозможно понимание истории как жизненного процесса (а не как бесполезного хронологического перечня имён и фактов). Я люблю эти миги озарения, когда смысл неуловимо сгущается из контекста.
И всё же, оставась наедине с книгой (или симфонией), я был бы рад — ненадолго — лишиться этой полубожественной избыточности зрения и вместе с автором, волнуясь, смотреть вперёд, сквозь тропическое буйство бытия, за беспорядочными сплетениями лиан и ветвей угадывая приметы грядущего пути.
Я пишу этот текст во всей полноте моего незнания. Быть может, Аннушка уже с раннего утра затоварилась в ближайшем супермаркете и сейчас ковыляет, оскальзываясь на почерневших ледовых горбылях и ворчливо матюгаясь себе под нос. Ранняя весна с её оттепелями и внезапными заморозками — время неверное. Береги бутыль, Аннушка! Ради всего святого, береги же это чёртово масло! Впрочем, может статься, она сегодня решила вообще не выходить из дома. Я не знаю.
Я пишу этот текст вот уже несколько дней — урывками, между другими делами. Не потому, что он, возможно, будет со временем что-то значить для других, а потому, что он оказался неожиданно значим для меня. Я уже близок к финальной точке, и до сих пор — даже в этот самый момент — не знаю, где именно я её поставлю. Этот текст сейчас стучит у меня в висках, пульсирует в подушечках пальцев, когда они касаются экранной клавиатуры.
Этот текст, безусловно, жив. Не в том суррогатном понимании, в котором мы говорим о вечно живом и вечно живых, а в самом безусловном и непосредственном: он ещё не успел состояться — ни как набор канонических моделей восприятия, ни даже просто как набор символов.
Мне кажется, высшее мастерство исполнения аак раз и состоит в том, чтобы возвращать тексту его несостоятельность, ту самую вдохновенную пульсацию пера и смысла над последней точкой, которая ещё не упала на бумагу…
P.s. Большое спасибо коллективу Омского симфонического оркестра, его руководителю маэстро Дмитрию Владимировичу Васильеву и музыковеду Артёму Михайловичу Варгафтику, блестяще воссоздавшим последнюю концертную программу, которой дирижировал Чайковский, и подарившим нам, слушателям, возможность прожить шестую симфонию как становящийся, а не как завершённый текст.